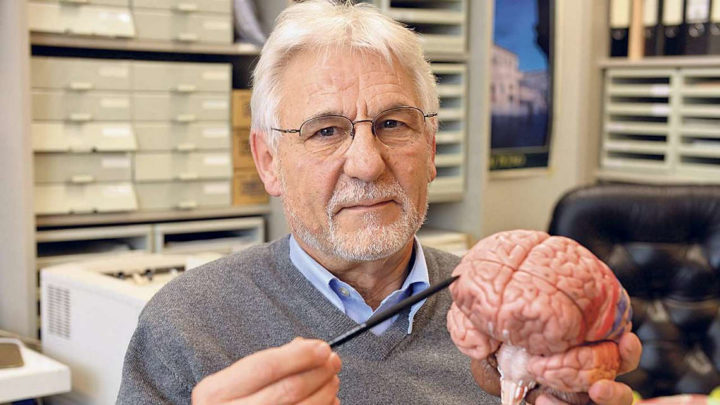История философии представляет собой нечто типа путаницы из всякого рода «измов». Идеализм, рационализм, номинализм, реализм, скептицизм, как и множество других, вот уже свыше двух с половиной тысяч лет, начиная с самых первых свидетельств западноевропейских мыслителей, ведут друг с другом непрекращающийся спор. Сами же школы, направления и движения зачастую бывает трудно отличить одно от другого. В какой-то мере все же каждый «изм», претендующий на серьезное к себе отношение, должен отмежеваться от уже укоренившихся: как минимум, ему необходимо предъявить какой-то новый методологический нюанс в теории познания. Зачастую это оказывается не более чем очередной перегруппировкой давно известных основных принципов, смещение отправных пунктов или смысловое расщепление привычного понятия. Эпистемологическая проблема — каким образом мы обретаем знания о действительности и является ли добытое знание «истинным» и достоверным — занимает современных философов не в меньшей степени, чем в свое время Платона. Несмотря на то, что методологические подходы стали более сложными и разветвленными, сама постановка вопроса, не считая нескольких редких исключений, не изменилась. Именно такая постановка вопроса привела к тому, что все ответы, которые предлагались, едва ли хоть как-то приближались к разрешению собственно проблемы.
Американским философом науки Хилари Путнам недавно это было сформулировано следующим образом: «От Сократа до Канта не было ни одного философа, который в своих первичных, далее не редуцируемых принципах не был бы метафизическим реалистом» [21]. Путнам разъясняет это утверждение исходя из того, что, несмотря на двухтысячелетний спор философов о том, что существует в действительности, само понятие истинности, которое всегда подразумевало некую объективную данность, никогда не вызывало разногласий [*]. Таким образом, каждый, кто утверждает, что нечто допустимо называть «истинным» только в том случае, если оно соответствует некоей абсолютно независимой «объективной» действительности, неизбежно является метафизическим реалистом.
По существу такое положение вещей не изменилось и после Канта. Несмотря на серьезное отношение некоторых мыслителей к критике чистого разума, давление философской традиции оказалось непреодолимым. Вопреки тезису Канта о том, что рассудок не извлекает правила своего функционирования из природы, а владеет ими априорно, многие ученые все еще и сегодня чувствуют себя «открывателями», постигающими загадки бытия, медленно, но уверенно расширяя тем самым границы человеческого познания. Сколько философов посвящает себя задаче придать неопровержимую достоверность столь тяжко добытым знаниям, достоверность, опирающуюся на мир «настоящих» истин! Все это не выходит за рамки веками господствующей точки зрения о том, что знание тогда только является знанием, когда оно познает мир таким, каков он есть [**].
Разумеется, историю западной эпистемологии невозможно охватить несколькими страницами. В данном кратком опусе я вынужден буду остановиться лишь на самом главном тезисе, позволяющем конструктивизму, который я представляю, отграничивать себя самым радикальным образом от других «измов» господствующего понятийного пространства. Радикальное отличие коренится во взгляде на вопрос о соотношении знания и действительности. Так, если в традиционной теории познания, а равно в когнитивной психологии это соотношение трактуется как в большей или меньшей мере образное (иконическое) соответствие, то радикальный конструктивизм придает ему значение приспособленности (Anpassung) в функциональном смысле.
* «В основе феноменологии познания лежит вопрос об истине. Постановка этого вопроса превращает человеческое познание в эпистемологическую проблему» [4].
** Шпиннер [25] подготовил великолепный всеобъемлющий обзор о тех мыслителях и их аргументации, которые каким-то образом противоречат данной распространенной точке зрения, тем самым зафиксировав всеобщее банкротство конвенциалистской теории познания.
На примере из староанглийского языка такого рода смысловое противопоставление ясно прослеживается между понятиями match и fit. Если эти слова перевести на немецкий язык как «stimmen» и «passen» (в данном переводе на русский язык: «соответствовать» и «подходить», «годиться»), то и здесь в пределах некоторых контекстов удается выявить эквивалентное смысловое противопоставление. Предположим, мы говорим о каком-то изображении, что оно «соответствует» («stimmt»). Это означает, что оно передает изображаемое и в какой-то мере является с ним однообразным.Конкретные свойства, по которым устанавливается однообразие, могут меняться от случая к случаю. Зачастую размер не играет никакой роли, так же, как и вес, цвет либо расположение в пространстве и времени; и все же в таких случаях говорят о точной передаче, воспроизводстве пропорции, порядка либо основного плана строения. На техническом жаргоне это называют «гомоморфизмом». В господствующих теориях познания мы всегда найдем явные или подразумеваемые предпосылки, основанные на том, что результат познания, а именно наши знания, являются знаниями о реальном мире, а коль скоро это так, то внешний мир, являющийся принципиально независимым и самодостаточным, гомоморфно отображается хотя бы в каком-то одном аспекте.
С другой стороны, в случае, когда мы говорим, что нечто «подходит», то подразумеваем не более и не менее того, что это нечто справляется с тем назначением, которое мы на него возложили. Ключ «подходит», если он отпирает замок. Понятие пригодности относится к ключу, но не к замку. Так, мы можем сказать наверняка, что профессиональный взломщик имеет множество ключей, имеющих различную форму и, тем не менее, открывающих нашу дверь. Данная метафора звучит грубовато, однако для придания наглядности обсуждаемой теме подходит не худшим образом. С точки зрения радикального конструктивизма все мы — ученые, философы, дилетанты, школьники, животные, как, впрочем, любые живые существа — соотносимся с нашей окружающей средой в такой же мере, как взломщик с замком, который он должен отпереть, чтобы добраться до добычи.
Именно слово «passen» («подходить»), понятое указанным образом, наиболее полно соответствует английскому понятию «fit» в дарвинистской и неодарвинистской теории эволюции. Дарвин сам, к своему же несчастью, ввел в употребление фразу«survival of the fittest» [*]. Тем самым он подготовил почву для возникновения нелепого представления о том, будто бы его теория делает допустимым изменять по степеням сравнения понятие пригодности, а среди организмов, приспособленных к своей среде, обнаруживать «более приспособленных», среди же этих последних — еще и «наиболее
* «Выживание наиболее приспособленных, наиболее пригодных» (англ.).
приспособленных» [*]. И все-таки, в теории, в которой выживание является единственным критерием видового отбора, существует лишь две возможности: либо вид пригоден для жизни в среде, либо — нет; т.е. либо он живет, либо вымирает. Только сторонний наблюдатель, который вводит совершенно другие критерии в дополнение к просто выживанию — нечто типа экономичности, простоты, либо изящества жизни, мог бы на основании такой добавочной оценочной шкалы говорить о «лучшем» или «худшем» выживании. Однако в теоретической модели, в основу которой положена исключительновыживательная способность видов, никакие дополнительные оценки не могут считаться обоснованными.
Именно в трактовке понятия «fitness» совпадают основные принципы теории познания радикального конструктивизма и теории эволюции: точно так же, как среда устанавливает границы выживания для живых организмов (органических структур), элиминируя варианты, выходящие за пределы возможностей выживания, так и опытный мир (будь то в повседневной жизни или в лаборатории) определяет критерий правильности (Prufstein) для наших идей (когнитивных структур). Это справедливо в отношении самых первых закономерностей, выводимых младенцем из своего еще едва-едва дифференцированного опыта, это справедливо в отношении правил, при помощи которых взрослые стремятся одолеть трудности повседневной жизни, точно так же это справедливо в отношении гипотез, теорий и так называемых «законов природы», к формулировке которых ученые приходят в результате своих усилий и которые вносят стабильность и порядок в пределы доступного нам опытного мира. Закономерности, эмпирические правила и теории подтверждают себя в свете дальнейшего опыта как надежные или нет (разве что мы вводим понятие вероятности, однако, поступая так, мы накладываем условие, чтобы знание обязательно было достоверным и ясным). В теории эволюции говорят о приспособленности, адаптации (нем. «Anpassung», англ. «adaptation») в том же смысле, в каком употребляют эти понятия в отношении
Знания, провоцируя тем самым неверные представления. Оставаясь приверженцами эволюционистского мышления, мы не можем говорить о том, что организмы или наши идеи приспосабливаются к действительности; скорее действительность отсеивает нежизнеспособный материал просто тем, что определяет пределы допустимого. «Естественный отбор» как в филогенетическом, так и в эпистемологическом аспекте не отбирает позитивно самые устойчивые, наиболее пригодные, наилучшие или самые истинные
* К. Ф. фон Вайцзеккер на одном из симпозиумов в Бремене (1979) обратил мое внимание на то, что в немецкой специальной литературе слово «fit» зачастую переводят как «tuchtig» («благоприятный»), что легко провоцирует употребление его в дискуссии в превосходной степени как «Tuchtigsten» («самый благоприятный»).
формы, а функционирует негативно таким образом, что всему, что не выдерживает проверки, просто позволяет разрушаться. Такое сопоставление, безусловно, выглядит несколько натянутым. В природе любой недостаток неизбежно оказывается смертельно наказуемым; что же касается философов, то они погибают из-за несовершенства своих идей чрезвычайно редко. В гуманитарном контексте речь следует вести не о выживании, а об «истинности». Не забывая об этой существенной поправке, мы приходим к ценной аналогии с эволюционной теорией: соотношение между жизнеспособными органическими структурами и окружающей средой по своей сути является таким же, как соотношение между отдельными когнитивными структурами и опытным миром мыслящего субъекта. Обе структуры являются «пригодными»: первая, поскольку естественная случайность мутаций придала им форму, которую они теперь имеют; вторая, поскольку человеческие намерения сформировали их в соответствии с целями, которым они теперь служат. Цели эти — интерпретация, предсказание и контроль либо управление определенными жизненными событиями (опытом).
Более важной представляется эпистемологическая сторона указанной аналогии. Вопреки распространенному ошибочному убеждению этологов, никакие выводы относительно «объективного», т.е. предшествующего опыту мира, отталкиваясь от строения или поведения живых существ, сделать невозможно [*]. Дело в том, что в соответствии с эволюционными представлениями между внешним миром и способными к выживанию биологическими структурами либо моделями их поведения не существует никакой причинной связи. Как заметил Грегори Бэйтсон, дарвиновская теория построена на кибернетическом принципе достаточности (Beschrankung), а не на причинно-следственных отношениях [**].Организмы и формы поведения, которые мы в любой точке эволюционного процесса обнаруживаем живыми, развились таковыми кумулятивно в результате случайных вариационных изменений. Что же касается влияния окружающей среды, то оно при любых обстоятельствах
* Как это было столь изящно показано Якобом фон Юэкскюлем [26], каждое живое существо само определяет собственную среду. Только лишенное каких-либо связей, полностью отчужденное существо, не вступающее ни в какое эмпирическое взаимодействие с миром, знание которого носит безусловный характер, могло бы рассуждать о каком-то «объективном» мире. По этой причине попытка фон Лоренца [16] дать объяснение человеческим представлениям о пространстве и времени, с одной стороны, в терминах «адаптации» («Anpassung»), а с другой — как объективным аспектам онтологической реальности ведет к логическому противоречию.
** Хайнц фон Фёрстер обратил мое внимание на то, что принципу отбора по установленным ограничениям не следует давать характеристику как собственно «кибернетическому», так как уже в XVIII в. он был для некоторых случаев сформулирован Мопертюи [1].
сводится к элиминации нежизнеспособных вариантов. Так что в лучшем случае можно сказать, что на окружающую среду возлагается ответственность за процесс вымирания, но никак не за выживание. Это означает, что наблюдатель, следящий за процессом развития, вполне может констатировать, что все вымершее каким-то образом вышло за грань допустимого, а выжившее, по крайней мере в настоящий момент, находится в его пределах. Такое утверждение, тем не менее, является явной тавтологией (живет то, что выживает) и не допускает никаких суждений относительно объективных свойств того мира, который обнаруживает себя исключительно посредством отрицательных влияний.
Такая логика вполне приемлема при анализе основной проблемы теории познания. В самом общем смысле наше знание является полезным, значимым, жизнеспособным (если угодно оценивать его в терминах позитивной шкалы) в том случае, когда оно накладывает устойчивость на опытный мир, дает возможность делать предсказания, допускать или предотвращать те или иные явления и события. Если же оно не справляется с указанными задачами, то объявляется сомнительным, ненадежным, бесполезным и в конечном итоге может быть обесценено до уровня суеверия. В функциональном, прагматическом смысле идеи, теории и «законы природы» могут рассматриваться в качестве структур, постоянно подвергающихся воздействию эмпирического мира (с которым мы вступаем во взаимодействие), в результате которого определяется их устойчивость или неустойчивость. Если какая-либо когнитивная структура не была отвергнута и по сей день, то это доказывает не более и не менее тот факт, что при данных обстоятельствах нашего опыта она справляется с задачами, которые мы на нее возлагаем. Следуя строгой логике, это вовсе не означает, что мы теперь знаем, как устроен объективный мир; это означает лишь то, что мы знаем один из многих путей, ведущих к достижению поставленной цели и который мы в нами же определенных обстоятельствах опыта избрали. Такое знание ничего не говорит нам (и в принципе сказать не может), сколько других возможных путей существует и в какой связи с внешним миром, миром по ту сторону нашего опыта находится событие, которое мы определили в качестве цели. Все, с чем мы можем соприкасаться из внешнего мира, — это в лучшем случае его границы (преграды) или, по-другому, как драматически выразился Мак-Каллок, один из первых кибернетиков: «Добиться доказательства неправильности гипотезы — в этом кульминация знания» [5].
Таким образом, радикальность радикального конструктивизма состоит прежде всего в том, что он порывает с общепринятой традицией и предлагает теорию познания, в которой понятие знания больше не соотносится с «объективной», онтологической действительностью, а определяется единственным образом как устанавливаемый порядок и организация опытного мира, формируемого в процессе жизни (проживания). Радикальный конструктивизм раз и навсегда отказывается от «метафизического реализма», всецело совпадая с позицией Пиаже, которая гласит: «L‘intelligence… organise le monde ens‘organisant elle-тeтe » [*] [19].
Для Пиаже организация — это всегда следствие взаимодействия между познающим разумом и окружающей средой. Оставаясь всегда в первую очередь философом биологии, он характеризует такого рода взаимодействие как «адаптацию». С этим я вполне соглашаюсь, однако при условии учета всего того, о чем я говорил на протяжении предыдущих страниц о процессе эволюционной адаптации: нужно уяснить предельно ясно, что смысловая составляющая «пригодности» в понятии «адаптация» («passen» in der Anpassung) ни в коей мере не должна пониматься как соответствие или гомоморфность. Относительно главного вопроса — как соотносятся между собой когнитивные структуры, или знания, и онтологический мир по ту сторону нашего опыта — Пиаже зачастую бывает двусмыслен, и может сложиться впечатление, что он, несмотря на свой эпохальный вклад в конструктивизм, все же допускает какой-то остаток метафизического реализма. В этом он совсем не одинок. Дональд Кэмпбелл, автор превосходного обзора о представителях «эволюционной эпистемологии» со времен Дарвина, писал: «Концептуальное включение реального мира остается спорным моментом, если проблему знания определить как вопрос соответствия эмпирических данных и теории этому реальному миру» [3]. В своем изложении он поясняет, что представляемая Карлом Поппером и им самим эволюционистская теория познания полностью разделяет требование науки о реализме и объективности. Однако теория, которую он перед этим со знанием дела излагал своему читателю, все же ведет в противоположном направлении [**].
В первой части своей работы я попытался показать, что неразрывно связанное с реализмом понятие соответствия (match)между знанием и действительностью вовсе не обязательно выводить из понятия пригодности (fit), относящегося к контексту развития, не говоря уже о том, что совершенно недопустимо их путать. Во второй части я собираюсь хотя бы приблизительно обозначить, каким образом радикальный конструктивизм соотносится с общей историей эпистемологии, а также показать, что он, может быть, и не столь радикален, как это выглядит с первого взгляда.